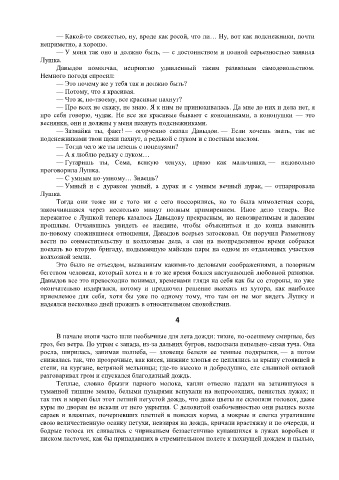Page 197 - Поднятая целина
P. 197
— Какой-то свежестью, ну, вроде как росой, что ли… Ну, вот как подснежники, почти
неприметно, а хорошо.
— У меня так оно и должно быть, — с достоинством и полной серьезностью заявила
Лушка.
Давыдов помолчал, неприятно удивленный таким развязным самодовольством.
Немного погодя спросил:
— Это почему же у тебя так и должно быть?
— Потому, что я красивая.
— Что ж, по-твоему, все красивые пахнут?
— Про всех не скажу, не знаю. Я к ним не принюхивалась. Да мне до них и дела нет, я
про себя говорю, чудак. Не все же красивые бывают с конопинками, а конопушки — это
веснянки, они и должны у меня пахнуть подснежниками.
— Зазнайка ты, факт! — огорченно сказал Давыдов. — Если хочешь знать, так не
подснежниками твои щеки пахнут, а редькой с луком и с постным маслом.
— Тогда чего же ты лезешь с поцелуями?
— А я люблю редьку с луком…
— Гутаришь ты, Сема, всякую чепуху, прямо как мальчишка, — недовольно
проговорила Лушка.
— С умным по-умному… Знаешь?
— Умный и с дураком умный, а дурак и с умным вечный дурак, — отпарировала
Лушка.
Тогда они тоже ни с того ни с сего поссорились, но то была мимолетная ссора,
закончившаяся через несколько минут полным примирением. Иное дело теперь. Все
пережитое с Лушкой теперь казалось Давыдову прекрасным, но невозвратимым и далеким
прошлым. Отчаявшись увидеть ее наедине, чтобы объясниться и до конца выяснить
по-новому сложившиеся отношения, Давыдов всерьез затосковал. Он поручил Разметнову
вести по совместительству и колхозные дела, а сам на неопределенное время собрался
поехать во вторую бригаду, подымавшую майские пары на одном из отдаленных участков
колхозной земли.
Это было не отъездом, вызванным какими-то деловыми соображениями, а позорным
бегством человека, который хотел и в то же время боялся наступающей любовной развязки.
Давыдов все это превосходно понимал, временами глядя на себя как бы со стороны, но уже
окончательно издергался, потому и предпочел решение выехать из хутора, как наиболее
приемлемое для себя, хотя бы уже по одному тому, что там он не мог видеть Лушку и
надеялся несколько дней прожить в относительном спокойствии.
4
В начале июня часто шли необычные для лета дожди: тихие, по-осеннему смирные, без
гроз, без ветра. По утрам с запада, из-за дальних бугров, выползала пепельно-сизая туча. Она
росла, ширилась, занимая полнеба, — зловеще белели ее темные подкрылки, — а потом
снижалась так, что прозрачные, как кисея, нижние хлопья ее цеплялись за крышу стоявшей в
степи, на кургане, ветряной мельницы; где-то высоко и добродушно, еле слышной октавой
разговаривал гром и спускался благодатный дождь.
Теплые, словно брызги парного молока, капли отвесно падали на затаившуюся в
туманной тишине землю, белыми пузырями вспухали на непросохших, пенистых лужах; и
так тих и мирен был этот летний негустой дождь, что даже цветы не склоняли головок, даже
куры по дворам не искали от него укрытия. С деловитой озабоченностью они рылись возле
сараев и влажных, почерневших плетней в поисках корма, а мокрые и слегка утратившие
свою величественную осанку петухи, невзирая на дождь, кричали врастяжку и по очереди, и
бодрые голоса их сливались с чириканьем беззастенчиво купавшихся в лужах воробьев и
писком ласточек, как бы припадавших в стремительном полете к пахнущей дождем и пылью,