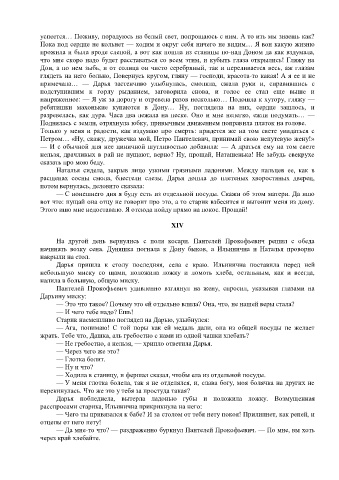Page 697 - Тихий Дон
P. 697
успеется… Поживу, порадуюсь на белый свет, попрощаюсь с ним. А то ить мы знаешь как?
Пока под сердце не кольнет — ходим и округ себя ничего не видим… Я вон какую жизню
прожила и была вроде слепой, а вот как пошла из станицы по-над Доном да как вздумала,
что мне скоро надо будет расставаться со всем этим, и кубыть глаза открылись! Гляжу на
Дон, а по нем зыбь, и от солнца он чисто серебряный, так и переливается весь, аж глазам
глядеть на него больно, Повернусь кругом, гляну — господи, красота-то какая! А я ее и не
примечала… — Дарья застенчиво улыбнулась, смолкла, сжала руки и, справившись с
подступившим к горлу рыданием, заговорила снова, и голос ее стал еще выше и
напряженнее: — Я уж за дорогу и отревела разов несколько… Подошла к хутору, гляжу —
ребятишки махонькие купаются в Дону… Ну, поглядела на них, сердце зашлось, и
разревелась, как дура. Часа два лежала на песке. Оно и мне нелегко, ежли подумать… —
Поднялась с земли, отряхнула юбку, привычным движением поправила платок на голове. —
Только у меня и радости, как вздумаю про смерть: придется же на том свете увидаться с
Петром… «Ну, скажу, дружечка мой, Петро Пантелевич, принимай свою непутевую жену!»
— И с обычной для нее циничной шутливостью добавила: — А драться ему на том свете
нельзя, драчливых в рай не пущают, верно? Ну, прощай, Наташенька! Не забудь свекрухе
сказать про мою беду.
Наталья сидела, закрыв лицо узкими грязными ладонями. Между пальцев ее, как в
расщепах сосны смола, блестели слезы. Дарья дошла до плетеных хворостяных дверец,
потом вернулась, деловито сказала:
— С нонешнего дня я буду есть из отдельной посуды. Скажи об этом матери. Да ишо
вот что: пущай она отцу не говорит про это, а то старик взбесится и выгонит меня из дому.
Этого ишо мне недоставало. Я отсюда пойду прямо на покос. Прощай!
XIV
На другой день вернулись с поля косари. Пантелей Прокофьевич решил с обеда
начинать возку сена. Дуняшка погнала к Дону быков, а Ильинична и Наталья проворно
накрыли на стол.
Дарья пришла к столу последняя, села с краю. Ильинична поставила перед ней
небольшую миску со щами, положила ложку и ломоть хлеба, остальным, как и всегда,
налила в большую, общую миску.
Пантелей Прокофьевич удивленно взглянул на жену, спросил, указывая глазами на
Дарьину миску:
— Это что такое? Почему это ей отдельно влила? Она, что, не нашей веры стала?
— И чего тебе надо? Ешь!
Старик насмешливо поглядел на Дарью, улыбнулся:
— Ага, понимаю! С той поры как ей медаль дали, она из общей посуды не желает
жрать. Тебе что, Дашка, аль гребостно с нами из одной чашки хлебать?
— Не гребостно, а нельзя, — хрипло ответила Дарья.
— Через чего же это?
— Глотка болит.
— Ну и что?
— Ходила в станицу, и фершал сказал, чтобы ела из отдельной посуды.
— У меня глотка болела, так я не отделялся, и, слава богу, моя болячка на других не
перекинулась. Что же это у тебя за простуда такая?
Дарья побледнела, вытерла ладонью губы и положила ложку. Возмущенная
расспросами старика, Ильинична прикрикнула на него:
— Чего ты привязался к бабе? И за столом от тебя нету покоя! Прилипнет, как репей, и
отцепы от него нету!
— Да мне-то что? — раздраженно буркнул Пантелей Прокофьевич. — По мне, вы хоть
через край хлебайте.