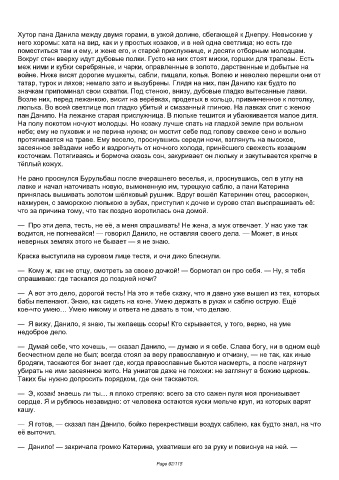Page 92 - Вечера на хуторе близ Диканьки
P. 92
Хутор пана Данила между двумя горами, в узкой долине, сбегающей к Днепру. Невысокие у
него хоромы: хата на вид, как и у простых козаков, и в ней одна светлица; но есть где
поместиться там и ему, и жене его, и старой прислужнице, и десяти отборным молодцам.
Вокруг стен вверху идут дубовые полки. Густо на них стоят миски, горшки для трапезы. Есть
меж ними и кубки серебряные, и чарки, оправленные в золото, дарственные и добытые на
войне. Ниже висят дорогие мушкеты, сабли, пищали, копья. Волею и неволею перешли они от
татар, турок и ляхов; немало зато и вызубрены. Глядя на них, пан Данило как будто по
значкам припоминал свои схватки. Под стеною, внизу, дубовые гладко вытесанные лавки.
Возле них, перед лежанкою, висит на верёвках, продетых в кольцо, привинченное к потолку,
люлька. Во всей светлице пол гладко убитый и смазанный глиною. На лавках спит с женою
пан Данило. На лежанке старая прислужница. В люльке тешится и убаюкивается малое дитя.
На полу покотом ночуют молодцы. Но козаку лучше спать на гладкой земле при вольном
небе; ему не пуховик и не перина нужна; он мостит себе под голову свежее сено и вольно
протягивается на траве. Ему весело, проснувшись середи ночи, взглянуть на высокое,
засеянное звёздами небо и вздрогнуть от ночного холода, принёсшего свежесть козацким
косточкам. Потягиваясь и бормоча сквозь сон, закуривает он люльку и закутывается крепче в
тёплый кожух.
Не рано проснулся Бурульбаш после вчерашнего веселья, и, проснувшись, сел в углу на
лавке и начал наточивать новую, вымененную им, турецкую саблю, а пани Катерина
принялась вышивать золотом шёлковый рушник. Вдруг вошёл Катеринин отец, рассержен,
нахмурен, с заморскою люлькою в зубах, приступил к дочке и сурово стал выспрашивать её:
что за причина тому, что так поздно воротилась она домой.
— Про эти дела, тесть, не её, а меня спрашивать! Не жена, а муж отвечает. У нас уже так
водится, не погневайся! — говорил Данило, не оставляя своего дела. — Может, в иных
неверных землях этого не бывает — я не знаю.
Краска выступила на суровом лице тестя, и очи дико блеснули.
— Кому ж, как не отцу, смотреть за своею дочкой! — бормотал он про себя. — Ну, я тебя
спрашиваю: где таскался до поздней ночи?
— А вот это дело, дорогой тесть! На это я тебе скажу, что я давно уже вышел из тех, которых
бабы пеленают. Знаю, как сидеть на коне. Умею держать в руках и саблю острую. Ещё
кое-что умею… Умею никому и ответа не давать в том, что делаю.
— Я вижу, Данило, я знаю, ты желаешь ссоры! Кто скрывается, у того, верно, на уме
недоброе дело.
— Думай себе, что хочешь, — сказал Данило, — думаю и я себе. Слава богу, ни в одном ещё
бесчестном деле не был; всегда стоял за веру православную и отчизну, — не так, как иные
бродяги, таскаются бог знает где, когда православные бьются насмерть, а после нагрянут
убирать не ими засеянное жито. На униатов даже не похожи: не заглянут в божию церковь.
Таких бы нужно допросить порядком, где они таскаются.
— Э, козак! знаешь ли ты… я плохо стреляю: всего за сто сажен пуля моя пронизывает
сердце. Я и рублюсь незавидно: от человека остаются куски мельче круп, из которых варят
кашу.
— Я готов, — сказал пан Данило, бойко перекрестивши воздух саблею, как будто знал, на что
её выточил.
— Данило! — закричала громко Катерина, ухвативши его за руку и повиснув на ней. —
Page 92/115