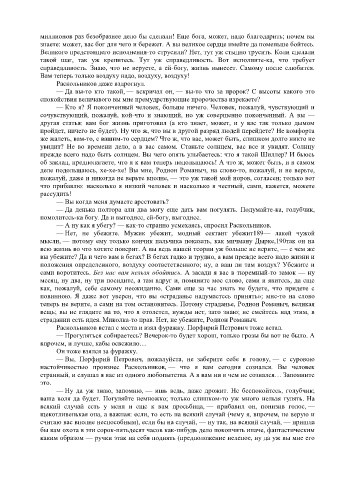Page 238 - Преступление и наказание
P. 238
миллионов раз безобразнее дело бы сделали! Еще бога, может, надо благодарить; почем вы
знаете: может, вас бог для чего и бережет. А вы великое сердце имейте да поменьше бойтесь.
Великого предстоящего исполнения-то струсили? Нет, тут уж стыдно трусить. Коли сделали
такой шаг, так уж крепитесь. Тут уж справедливость. Вот исполните-ка, что требует
справедливость. Знаю, что не веруете, а ей-богу, жизнь вынесет. Самому после слюбится.
Вам теперь только воздуху надо, воздуху, воздуху!
Раскольников даже вздрогнул.
— Да вы-то кто такой, — вскричал он, — вы-то что за пророк? С высоты какого это
спокойствия величавого вы мне премудрствующие пророчества изрекаете?
— Кто я? Я поконченный человек, больше ничего. Человек, пожалуй, чувствующий и
сочувствующий, пожалуй, кой-что и знающий, но уж совершенно поконченный. А вы —
другая статья: вам бог жизнь приготовил (а кто знает, может, и у вас так только дымом
пройдет, ничего не будет). Ну что ж, что вы в другой разряд людей перейдете? Не комфорта
же жалеть, вам-то, с вашим-то сердцем? Что ж, что вас, может быть, слишком долго никто не
увидит? Не во времени дело, а в вас самом. Станьте солнцем, вас все и увидят. Солнцу
прежде всего надо быть солнцем. Вы чего опять улыбаетесь: что я такой Шиллер? И бьюсь
об заклад, предполагаете, что я к вам теперь подольщаюсь! А что ж, может быть, и в самом
деле подольщаюсь, хе-хе-хе! Вы мне, Родион Романыч, на слово-то, пожалуй, и не верьте,
пожалуй, даже и никогда не верьте вполне, — это уж такой мой норов, согласен; только вот
что прибавлю: насколько я низкий человек и насколько я честный, сами, кажется, можете
рассудить!
— Вы когда меня думаете арестовать?
— Да денька полтора али два могу еще дать вам погулять. Подумайте-ка, голубчик,
помолитесь-ка богу. Да и выгоднее, ей-богу, выгоднее.
— А ну как я убегу? — как-то странно усмехаясь, спросил Раскольников.
— Нет, не убежите. Мужик убежит, модный сектант убежит189— лакей чужой
мысли, — потому ему только кончик пальчика показать, как мичману Дырке,190так он на
всю жизнь во что хотите поверит. А вы ведь вашей теории уж больше не верите, — с чем же
вы убежите? Да и чего вам в бегах? В бегах гадко и трудно, а вам прежде всего надо жизни и
положения определенного, воздуху соответственного; ну, а ваш ли там воздух? Убежите и
сами воротитесь. Без нас вам нельзя обойтись. А засади я вас в тюремный-то замок — ну
месяц, ну два, ну три посидите, а там вдруг и, помяните мое слово, сами и явитесь, да еще
как, пожалуй, себе самому неожиданно. Сами еще за час знать не будете, что придете с
повинною. Я даже вот уверен, что вы «страданье надумаетесь принять»; мне-то на слово
теперь не верите, а сами на том остановитесь. Потому страданье, Родион Романыч, великая
вещь; вы не глядите на то, что я отолстел, нужды нет, зато знаю; не смейтесь над этим, в
страдании есть идея. Миколка-то прав. Нет, не убежите, Родион Романыч.
Раскольников встал с места и взял фуражку. Порфирий Петрович тоже встал.
— Прогуляться собираетесь? Вечерок-то будет хорош, только грозы бы вот не было. А
впрочем, и лучше, кабы освежило…
Он тоже взялся за фуражку.
— Вы, Порфирий Петрович, пожалуйста, не заберите себе в голову, — с суровою
настойчивостью произнес Раскольников, — что я вам сегодня сознался. Вы человек
странный, и слушал я вас из одного любопытства. А я вам ни в чем не сознался… Запомните
это.
— Ну да уж знаю, запомню, — ишь ведь, даже дрожит. Не беспокойтесь, голубчик;
ваша воля да будет. Погуляйте немножко; только слишком-то уж много нельзя гулять. На
всякий случай есть у меня и еще к вам просьбица, — прибавил он, понизив голос, —
щекотливенькая она, а важная: если, то есть на всякий случай (чему я, впрочем, не верую и
считаю вас вполне неспособным), если бы на случай, — ну так, на всякий случай, — пришла
бы вам охота в эти сорок-пятьдесят часов как-нибудь дело покончить иначе, фантастическим
каким образом — ручки этак на себя поднять (предположение нелепое, ну да уж вы мне его