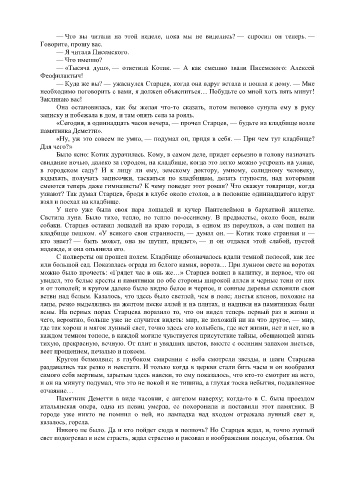Page 295 - Рассказы. Повести. Пьесы
P. 295
— Что вы читали на этой неделе, пока мы не виделись? — спросил он теперь. —
Говорите, прошу вас.
— Я читала Писемского.
— Что именно?
— «Тысяча душ», — ответила Котик. — А как смешно звали Писемского: Алексей
Феофилактыч!
— Куда же вы? — ужаснулся Старцев, когда она вдруг встала и пошла к дому. — Мне
необходимо поговорить с вами, я должен объясниться… Побудьте со мной хоть пять минут!
Заклинаю вас!
Она остановилась, как бы желая что-то сказать, потом неловко сунула ему в руку
записку и побежала в дом, и там опять села за рояль.
«Сегодня, в одиннадцать часов вечера, — прочел Старцев, — будьте на кладбище возле
памятника Деметти».
«Ну, уж это совсем не умно, — подумал он, придя в себя. — При чем тут кладбище?
Для чего?»
Было ясно: Котик дурачилась. Кому, в самом деле, придет серьезно в голову назначать
свидание ночью, далеко за городом, на кладбище, когда это легко можно устроить на улице,
в городском саду? И к лицу ли ему, земскому доктору, умному, солидному человеку,
вздыхать, получать записочки, таскаться по кладбищам, делать глупости, над которыми
смеются теперь даже гимназисты? К чему поведет этот роман? Что скажут товарищи, когда
узнают? Так думал Старцев, бродя в клубе около столов, а в половине одиннадцатого вдруг
взял и поехал на кладбище.
У него уже была своя пара лошадей и кучер Пантелеймон в бархатной жилетке.
Светила луна. Было тихо, тепло, но тепло по-осеннему. В предместье, около боен, выли
собаки. Старцев оставил лошадей на краю города, в одном из переулков, а сам пошел на
кладбище пешком. «У всякого свои странности, — думал он. — Котик тоже странная и —
кто знает? — быть может, она не шутит, придет», — и он отдался этой слабой, пустой
надежде, и она опьянила его.
С полверсты он прошел полем. Кладбище обозначалось вдали темной полосой, как лес
или большой сад. Показалась ограда из белого камня, ворота… При лунном свете на воротах
можно было прочесть: «Грядет час в онь же…» Старцев вошел в калитку, и первое, что он
увидел, это белые кресты и памятники по обе стороны широкой аллеи и черные тени от них
и от тополей; и кругом далеко было видно белое и черное, и сонные деревья склоняли свои
ветви над белым. Казалось, что здесь было светлей, чем в поле; листья кленов, похожие на
лапы, резко выделялись на желтом песке аллей и на плитах, и надписи на памятниках были
ясны. На первых порах Старцева поразило то, что он видел теперь первый раз в жизни и
чего, вероятно, больше уже не случится видеть: мир, не похожий ни на что другое, — мир,
где так хорош и мягок лунный свет, точно здесь его колыбель, где нет жизни, нет и нет, но в
каждом темном тополе, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь
тихую, прекрасную, вечную. От плит и увядших цветов, вместе с осенним запахом листьев,
веет прощением, печалью и покоем.
Кругом безмолвие; в глубоком смирении с неба смотрели звезды, и шаги Старцева
раздавались так резко и некстати. И только когда в церкви стали бить часы и он вообразил
самого себя мертвым, зарытым здесь навеки, то ему показалось, что кто-то смотрит на него,
и он на минуту подумал, что это не покой и не тишина, а глухая тоска небытия, подавленное
отчаяние…
Памятник Деметти в виде часовни, с ангелом наверху; когда-то в С. была проездом
итальянская опера, одна из певиц умерла, ее похоронили и поставили этот памятник. В
городе уже никто не помнил о ней, но лампадка над входом отражала лунный свет и,
казалось, горела.
Никого не было. Да и кто пойдет сюда в полночь? Но Старцев ждал, и, точно лунный
свет подогревал в нем страсть, ждал страстно и рисовал в воображении поцелуи, объятия. Он