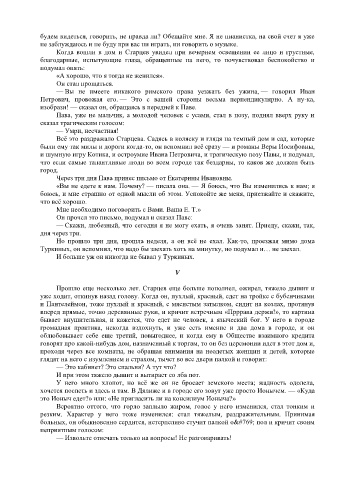Page 300 - Рассказы. Повести. Пьесы
P. 300
будем видеться, говорить, не правда ли? Обещайте мне. Я не пианистка, на свой счет я уже
не заблуждаюсь и не буду при вас ни играть, ни говорить о музыке.
Когда вошли в дом и Старцев увидел при вечернем освещении ее лицо и грустные,
благодарные, испытующие глаза, обращенные на него, то почувствовал беспокойство и
подумал опять:
«А хорошо, что я тогда не женился».
Он стал прощаться.
— Вы не имеете никакого римского права уезжать без ужина, — говорил Иван
Петрович, провожая его. — Это с вашей стороны весьма перпендикулярно. А ну-ка,
изобрази! — сказал он, обращаясь в передней к Паве.
Пава, уже не мальчик, а молодой человек с усами, стал в позу, поднял вверх руку и
сказал трагическим голосом:
— Умри, несчастная!
Всё это раздражало Старцева. Садясь в коляску и глядя на темный дом и сад, которые
были ему так милы и дороги когда-то, он вспомнил всё сразу — и романы Веры Иосифовны,
и шумную игру Котика, и остроумие Ивана Петровича, и трагическую позу Павы, и подумал,
что если самые талантливые люди во всем городе так бездарны, то каков же должен быть
город.
Через три дня Пава принес письмо от Екатерины Ивановны.
«Вы не едете к нам. Почему? — писала она. — Я боюсь, что Вы изменились к нам; я
боюсь, и мне страшно от одной мысли об этом. Успокойте же меня, приезжайте и скажите,
что всё хорошо.
Мне необходимо поговорить с Вами. Ваша Е. Т.»
Он прочел это письмо, подумал и сказал Паве:
— Скажи, любезный, что сегодня я не могу ехать, я очень занят. Приеду, скажи, так,
дня через три.
Но прошло три дня, прошла неделя, а он всё не ехал. Как-то, проезжая мимо дома
Туркиных, он вспомнил, что надо бы заехать хоть на минутку, но подумал и… не заехал.
И больше уж он никогда не бывал у Туркиных.
V
Прошло еще несколько лет. Старцев еще больше пополнел, ожирел, тяжело дышит и
уже ходит, откинув назад голову. Когда он, пухлый, красный, едет на тройке с бубенчиками
и Пантелеймон, тоже пухлый и красный, с мясистым затылком, сидит на козлах, протянув
вперед прямые, точно деревянные руки, и кричит встречным «Прррава держи!», то картина
бывает внушительная, и кажется, что едет не человек, а языческий бог. У него в городе
громадная практика, некогда вздохнуть, и уже есть имение и два дома в городе, и он
облюбовывает себе еще третий, повыгоднее, и когда ему в Обществе взаимного кредита
говорят про какой-нибудь дом, назначенный к торгам, то он без церемонии идет в этот дом и,
проходя через все комнаты, не обращая внимания на неодетых женщин и детей, которые
глядят на него с изумлением и страхом, тычет во все двери палкой и говорит:
— Это кабинет? Это спальня? А тут что?
И при этом тяжело дышит и вытирает со лба пот.
У него много хлопот, но всё же он не бросает земского места; жадность одолела,
хочется поспеть и здесь и там. В Дялиже и в городе его зовут уже просто Ионычем. — «Куда
это Ионыч едет?» или: «Не пригласить ли на консилиум Ионыча?»
Вероятно оттого, что горло заплыло жиром, голос у него изменился, стал тонким и
резким. Характер у него тоже изменился: стал тяжелым, раздражительным. Принимая
больных, он обыкновенно сердится, нетерпеливо стучит палкой о́ пол и кричит своим
неприятным голосом:
— Извольте отвечать только на вопросы! Не разговаривать!