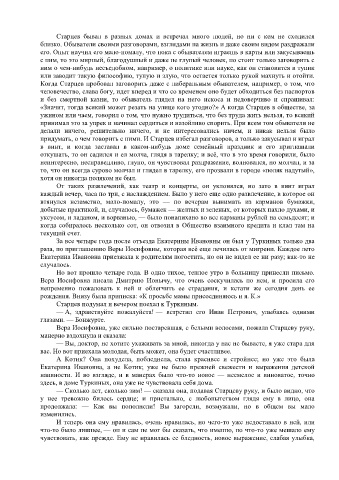Page 298 - Рассказы. Повести. Пьесы
P. 298
Старцев бывал в разных домах и встречал много людей, но ни с кем не сходился
близко. Обыватели своими разговорами, взглядами на жизнь и даже своим видом раздражали
его. Опыт научил его мало-помалу, что пока с обывателем играешь в карты или закусываешь
с ним, то это мирный, благодушный и даже не глупый человек, но стоит только заговорить с
ним о чем-нибудь несъедобном, например, о политике или науке, как он становится в тупик
или заводит такую философию, тупую и злую, что остается только рукой махнуть и отойти.
Когда Старцев пробовал заговорить даже с либеральным обывателем, например, о том, что
человечество, слава богу, идет вперед и что со временем оно будет обходиться без паспортов
и без смертной казни, то обыватель глядел на него искоса и недоверчиво и спрашивал:
«Значит, тогда всякий может резать на улице кого угодно?» А когда Старцев в обществе, за
ужином или чаем, говорил о том, что нужно трудиться, что без труда жить нельзя, то всякий
принимал это за упрек и начинал сердиться и назойливо спорить. При всем том обыватели не
делали ничего, решительно ничего, и не интересовались ничем, и никак нельзя было
придумать, о чем говорить с ними. И Старцев избегал разговоров, а только закусывал и играл
в винт, и когда заставал в каком-нибудь доме семейный праздник и его приглашали
откушать, то он садился и ел молча, глядя в тарелку; и всё, что в это время говорили, было
неинтересно, несправедливо, глупо, он чувствовал раздражение, волновался, но молчал, и за
то, что он всегда сурово молчал и глядел в тарелку, его прозвали в городе «поляк надутый»,
хотя он никогда поляком не был.
От таких развлечений, как театр и концерты, он уклонялся, но зато в винт играл
каждый вечер, часа по три, с наслаждением. Было у него еще одно развлечение, в которое он
втянулся незаметно, мало-помалу, это — по вечерам вынимать из карманов бумажки,
добытые практикой, и, случалось, бумажек — желтых и зеленых, от которых пахло духами, и
уксусом, и ладаном, и ворванью, — было понапихано во все карманы рублей на семьдесят; и
когда собиралось несколько сот, он отвозил в Общество взаимного кредита и клал там на
текущий счет.
За все четыре года после отъезда Екатерины Ивановны он был у Туркиных только два
раза, по приглашению Веры Иосифовны, которая всё еще лечилась от мигрени. Каждое лето
Екатерина Ивановна приезжала к родителям погостить, но он не видел ее ни разу; как-то не
случалось.
Но вот прошло четыре года. В одно тихое, теплое утро в больницу принесли письмо.
Вера Иосифовна писала Дмитрию Ионычу, что очень соскучилась по нем, и просила его
непременно пожаловать к ней и облегчить ее страдания, и кстати же сегодня день ее
рождения. Внизу была приписка: «К просьбе мамы присоединяюсь и я. К.»
Старцев подумал и вечером поехал к Туркиным.
— А, здравствуйте пожалуйста! — встретил его Иван Петрович, улыбаясь одними
глазами. — Бонжурте.
Вера Иосифовна, уже сильно постаревшая, с белыми волосами, пожала Старцеву руку,
манерно вздохнула и сказала:
— Вы, доктор, не хотите ухаживать за мной, никогда у нас не бываете, я уже стара для
вас. Но вот приехала молодая, быть может, она будет счастливее.
А Котик? Она похудела, побледнела, стала красивее и стройнее; но уже это была
Екатерина Ивановна, а не Котик; уже не было прежней свежести и выражения детской
наивности. И во взгляде, и в манерах было что-то новое — несмелое и виноватое, точно
здесь, в доме Туркиных, она уже не чувствовала себя дома.
— Сколько лет, сколько зим! — сказала она, подавая Старцеву руку, и было видно, что
у нее тревожно билось сердце; и пристально, с любопытством глядя ему в лицо, она
продолжала: — Как вы пополнели! Вы загорели, возмужали, но в общем вы мало
изменились.
И теперь она ему нравилась, очень нравилась, но чего-то уже недоставало в ней, или
что-то было лишнее, — он и сам не мог бы сказать, что именно, но что-то уже мешало ему
чувствовать, как прежде. Ему не нравилась ее бледность, новое выражение, слабая улыбка,