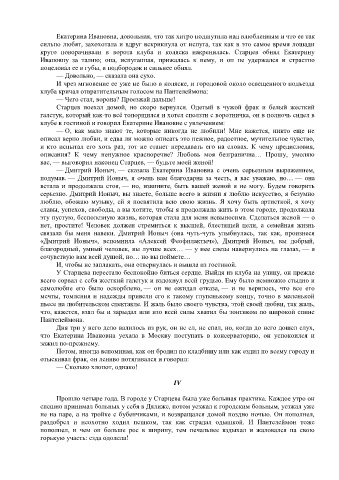Page 297 - Рассказы. Повести. Пьесы
P. 297
Екатерина Ивановна, довольная, что так хитро подшутила над влюбленным и что ее так
сильно любят, захохотала и вдруг вскрикнула от испуга, так как в это самое время лошади
круто поворачивали в ворота клуба и коляска накренилась. Старцев обнял Екатерину
Ивановну за талию; она, испуганная, прижалась к нему, и он не удержался и страстно
поцеловал ее в губы, в подбородок и сильнее обнял.
— Довольно, — сказала она сухо.
И чрез мгновение ее уже не было в коляске, и городовой около освещенного подъезда
клуба кричал отвратительным голосом на Пантелеймона:
— Чего стал, ворона? Проезжай дальше!
Старцев поехал домой, но скоро вернулся. Одетый в чужой фрак и белый жесткий
галстук, который как-то всё топорщился и хотел сползти с воротничка, он в полночь сидел в
клубе в гостиной и говорил Екатерине Ивановне с увлечением:
— О, как мало знают те, которые никогда не любили! Мне кажется, никто еще не
описал верно любви, и едва ли можно описать это нежное, радостное, мучительное чувство,
и кто испытал его хоть раз, тот не станет передавать его на словах. К чему предисловия,
описания? К чему ненужное красноречие? Любовь моя безгранична… Прошу, умоляю
вас, — выговорил наконец Старцев, — будьте моей женой!
— Дмитрий Ионыч, — сказала Екатерина Ивановна с очень серьезным выражением,
подумав. — Дмитрий Ионыч, я очень вам благодарна за честь, я вас уважаю, но… — она
встала и продолжала стоя, — но, извините, быть вашей женой я не могу. Будем говорить
серьезно. Дмитрий Ионыч, вы знаете, больше всего в жизни я люблю искусство, я безумно
люблю, обожаю музыку, ей я посвятила всю свою жизнь. Я хочу быть артисткой, я хочу
славы, успехов, свободы, а вы хотите, чтобы я продолжала жить в этом городе, продолжала
эту пустую, бесполезную жизнь, которая стала для меня невыносима. Сделаться женой — о
нет, простите! Человек должен стремиться к высшей, блестящей цели, а семейная жизнь
связала бы меня навеки. Дмитрий Ионыч (она чуть-чуть улыбнулась, так как, произнеся
«Дмитрий Ионыч», вспомнила «Алексей Феофилактыч»), Дмитрий Ионыч, вы добрый,
благородный, умный человек, вы лучше всех… — у нее слезы навернулись на глазах, — я
сочувствую вам всей душой, но… но вы поймете…
И, чтобы не заплакать, она отвернулась и вышла из гостиной.
У Старцева перестало беспокойно биться сердце. Выйдя из клуба на улицу, он прежде
всего сорвал с себя жесткий галстук и вздохнул всей грудью. Ему было немножко стыдно и
самолюбие его было оскорблено, — он не ожидал отказа, — и не верилось, что все его
мечты, томления и надежды привели его к такому глупенькому концу, точно в маленькой
пьесе на любительском спектакле. И жаль было своего чувства, этой своей любви, так жаль,
что, кажется, взял бы и зарыдал или изо всей силы хватил бы зонтиком по широкой спине
Пантелеймона.
Дня три у него дело валилось из рук, он не ел, не спал, но, когда до него дошел слух,
что Екатерина Ивановна уехала в Москву поступать в консерваторию, он успокоился и
зажил по-прежнему.
Потом, иногда вспоминая, как он бродил по кладбищу или как ездил по всему городу и
отыскивал фрак, он лениво потягивался и говорил:
— Сколько хлопот, однако!
IV
Прошло четыре года. В городе у Старцева была уже большая практика. Каждое утро он
спешно принимал больных у себя в Дялиже, потом уезжал к городским больным, уезжал уже
не на паре, а на тройке с бубенчиками, и возвращался домой поздно ночью. Он пополнел,
раздобрел и неохотно ходил пешком, так как страдал одышкой. И Пантелеймон тоже
пополнел, и чем он больше рос в ширину, тем печальнее вздыхал и жаловался на свою
горькую участь: езда одолела!