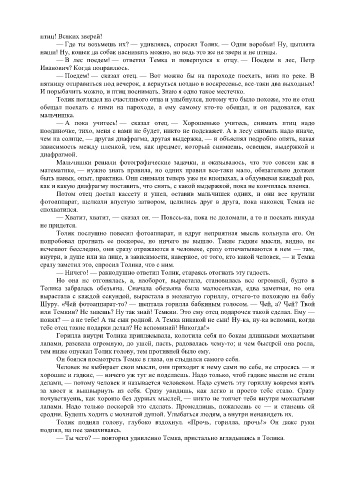Page 104 - Лабиринт
P. 104
птиц! Всяких зверей!
— Где ты возьмешь их? — удивляясь, спросил Толик. — Одни воробьи! Ну, цыплята
наши! Ну, кошек да собак наснимать можно, но ведь это же не звери и не птицы.
— В лес поедем! — ответил Темка и повернулся к отцу. — Поедем в лес, Петр
Иванович? Когда поправлюсь.
— Поедем! — сказал отец. — Вот можно бы на пароходе поехать, вниз по реке. В
пятницу отправиться под вечерок, а вернуться поздно в воскресенье, все-таки два выходных!
И порыбачить можно, и птиц поснимать. Знаю я одно такое местечко.
Толик поглядел на счастливого отца и улыбнулся, потому что было похоже, это не отец
обещал поехать с ними на пароходе, а ему самому кто-то обещал, и он радовался, как
мальчишка.
— А пока учитесь! — сказал отец. — Хорошенько учитесь, снимать птиц надо
поодиночке, тихо, меня с вами не будет, никто не подскажет. А в лесу снимать надо иначе,
чем на солнце, — другая диафрагма, другая выдержка, — и объяснял подробно опять, какая
зависимость между пленкой, тем, как предмет, который снимаешь, освещен, выдержкой и
диафрагмой.
Мальчишки решали фотографические задачки, и оказывалось, что это совсем как в
математике, — нужно знать правила, но одних правил все-таки мало, обязательно должен
быть навык, опыт, практика. Они снимали теперь уже не впопыхах, а обдумывая каждый раз,
как и какую диафрагму поставить, что снять, с какой выдержкой, пока не кончилась пленка.
Потом отец достал кассету и ушел, оставив мальчишек одних, и они все крутили
фотоаппарат, щелкали впустую затвором, целились друг в друга, пока наконец Темка не
спохватился.
— Хватит, хватит, — сказал он. — Повесь-ка, пока не доломали, а то и поехать никуда
не придется.
Толик послушно повесил фотоаппарат, и вдруг неприятная мысль кольнула его. Он
попробовал прогнать ее поскорее, но ничего не вышло. Такие гадкие мысли, видно, не
исчезают бесследно, они сразу отражаются в человеке, сразу отпечатываются в нем — там,
внутри, в душе или на лице, в зависимости, наверное, от того, кто какой человек, — и Темка
сразу заметил это, спросил Толика, что с ним.
— Ничего! — равнодушно ответил Толик, стараясь отогнать эту гадость.
Но она не отгонялась, а, наоборот, вырастала, становилась все огромней, будто в
Толика забралась обезьяна. Сначала обезьяна была малюсенькая, едва заметная, но она
вырастала с каждой секундой, вырастала в мохнатую гориллу, отчего-то похожую на бабу
Шуру. «Чей фотоаппарат-то? — шептала горилла бабкиным голосом. — Чей, а? Чей? Твой
или Темкин? Не знаешь? Ну так знай! Темкин. Это ему отец подарочек такой сделал. Ему —
понял? — а не тебе! А ты сын родной. А Темка никакой не сын! Ну-ка, ну-ка вспомни, когда
тебе отец такие подарки делал? Не вспоминай! Никогда!»
Горилла внутри Толика приплясывала, колотила себя по бокам длинными мохнатыми
лапами, разевала огромную, до ушей, пасть, радовалась чему-то; и чем быстрей она росла,
тем ниже опускал Толик голову, тем противней было ему.
Он боялся посмотреть Темке в глаза, он стыдился самого себя.
Человек не выбирает свои мысли, они приходят к нему сами по себе, не спросясь — и
хорошие и гадкие, — ничего уж тут не поделаешь. Надо только, чтоб гадкие мысли не стали
делами, — потому человек и называется человеком. Надо суметь эту гориллу вовремя взять
за хвост и вышвырнуть из себя. Сразу увидишь, как легко и просто тебе стало. Сразу
почувствуешь, как хорошо без дурных мыслей, — никто не топчет тебя внутри мохнатыми
лапами. Надо только поскорей это сделать. Промедлишь, пожалеешь ее — и станешь ей
сродни. Будешь ходить с мохнатой душой. Улыбаться людям, а внутри ненавидеть их.
Толик поднял голову, глубоко вздохнул. «Прочь, горилла, прочь!» Он даже руки
поднял, на нее замахиваясь.
— Ты чего? — повторил удивленно Темка, пристально вглядываясь в Толика.