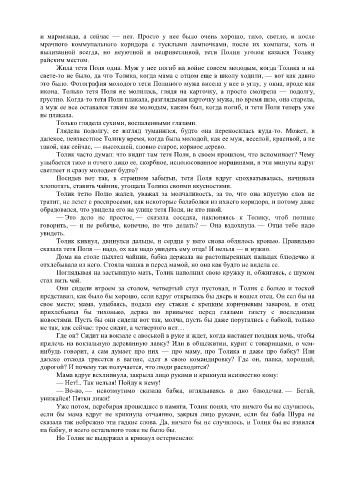Page 34 - Лабиринт
P. 34
и мармелада, а сейчас — нет. Просто у нее было очень хорошо, тихо, светло, и после
мрачного коммунального коридора с тусклыми лампочками, после их комнаты, хоть и
вылизанной всегда, но неуютной и неприветливой, тети Полин уголок казался Толику
райским местом.
Жила тетя Поля одна. Муж у нее погиб на войне совсем молодым, когда Толика и на
свете-то не было, да что Толика, когда мама с отцом еще в школу ходили, — вот как давно
это было. Фотография молодого тети Полиного мужа висела у нее в углу, у окна, вроде как
икона. Только тетя Поля не молилась, глядя на карточку, а просто смотрела — подолгу,
грустно. Когда-то тетя Поля плакала, разглядывая карточку мужа, но время шло, она старела,
а муж ее все оставался таким же молодым, каким был, когда погиб, и тетя Поля теперь уже
не плакала.
Только глядела сухими, воспаленными глазами.
Глядела подолгу, ее взгляд туманился, будто она переносилась куда-то. Может, в
далекое, неизвестное Толику время, когда была молодой, как ее муж, веселой, красивой, а не
такой, как сейчас, — высохшей, словно старое, корявое дерево.
Толик часто думал: что видит там тетя Поля, в своем прошлом, что вспоминает? Чему
улыбается тихо и отчего лицо ее, скорбное, исполосованное морщинами, в эти минуты вдруг
светлеет и сразу молодеет будто?
Посидев вот так, в странном забытьи, тетя Поля вдруг спохватывалась, начинала
хлопотать, ставить чайник, угощала Толика своими вкусностями.
Толик тетю Полю жалел, уважал за молчаливость, за то, что она впустую слов не
тратит, не лезет с расспросами, как некоторые балаболки из ихнего коридора, и потому даже
обрадовался, что увидела его на улице тетя Поля, не кто иной.
— Это дело не простое, — сказала соседка, наклоняясь к Толику, чтоб потише
говорить, — и не ребячье, конечно, но что делать? — Она вздохнула. — Отца тебе надо
увидеть.
Толик кивнул, двинулся дальше, и сердце у него снова облилось кровью. Правильно
сказала тетя Поля — надо, ох как надо увидеть ему отца! И нельзя — и нужно.
Дома на столе пыхтел чайник, бабка держала на растопыренных пальцах блюдечко и
отхлебывала из него. Стояла чашка и перед мамой, но она как будто не видела ее.
Поглядывая на застывшую мать, Толик наполнил свою кружку и, обжигаясь, с шумом
стал пить чай.
Они сидели втроем за столом, четвертый стул пустовал, и Толик с болью и тоской
представил, как было бы хорошо, если вдруг открылась бы дверь и вошел отец. Он сел бы на
свое место; мама, улыбаясь, подала ему стакан с крепким коричневым заваром, и отец
прихлебывал бы тихонько, держа по привычке перед глазами газету с последними
новостями. Пусть бы они сидели вот так, молча, пусть бы даже поругались с бабкой, только
не так, как сейчас: трое сидят, а четвертого нет…
Где он? Сидит на вокзале с авоськой в руке и ждет, когда настанет поздняя ночь, чтобы
прилечь на вокзальную деревянную лавку? Или в общежитии, курит с товарищами, о чем-
нибудь говорит, а сам думает про них — про маму, про Толика и даже про бабку? Или
далеко отсюда трясется в вагоне, едет в свою командировку? Где он, папка, хороший,
дорогой? И почему так получается, что люди расходятся?
Мама вдруг всхлипнула, закрыла лицо руками и крикнула неизвестно кому:
— Нет!.. Так нельзя! Пойду к нему!
— Во-во, — невозмутимо сказала бабка, вглядываясь в дно блюдечка. — Бегай,
унижайся! Пятки лижи!
Уже потом, перебирая прошедшее в памяти, Толик понял, что ничего бы не случилось,
если бы мама вдруг не крикнула отчаянно, закрыв лицо руками, если бы баба Шура не
сказала так небрежно эти гадкие слова. Да, ничего бы не случилось, и Толик бы не взвился
на бабку, и всего остального тоже не было бы.
Но Толик не выдержал и крикнул остервенело: