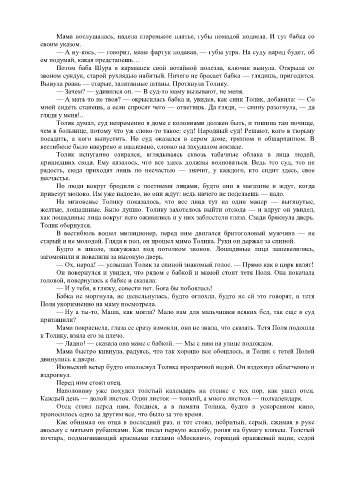Page 59 - Лабиринт
P. 59
Мама послушалась, надела старенькое платье, губы помадой подвела. И тут бабка со
своим указом.
— А ну-кось, — говорит, маме фартук подавая, — губы утри. На суду народ будет, об
ем подумай, какая предстанешь…
Потом баба Шура в кармашек свой потайной полезла, ключик вынула. Открыла со
звоном сундук, старой рухлядью набитый. Ничего не бросает бабка — глядишь, пригодится.
Вынула рвань — старые, залатанные штаны. Протянула Толику.
— Зачем? — удивился он. — В суд-то маму вызывают, не меня.
— А мать-то не твоя? — окрысилась бабка и, увидев, как сник Толик, добавила: — Со
мной сидеть станешь, а если спросят чего — ответишь. Да гляди, — спину разогнула, — да
гляди у меня!..
Толик думал, суд непременно в доме с колоннами должен быть, и тишина там почище,
чем в больнице, потому что уж слово-то такое: суд! Народный суд! Решают, кого в тюрьму
посадить, а кого выпустить. Но суд оказался в сером доме, грязном и обшарпанном. В
вестибюле было накурено и наплевано, словно на захудалом вокзале.
Толик испуганно озирался, вглядываясь сквозь табачные облака в лица людей,
пришедших сюда. Ему казалось, что все здесь должны волноваться. Ведь это суд, это не
радость, сюда приходят лишь по несчастью — значит, у каждого, кто сидит здесь, свое
несчастье.
Но люди вокруг бродили с постными лицами, будто они в магазине и ждут, когда
привезут молоко. Им уже надоело, но они ждут: ведь ничего не поделаешь — надо.
На мгновенье Толику показалось, что все лица тут на один манер — вытянутые,
желтые, лошадиные. Было душно. Толику захотелось выйти отсюда — и вдруг он увидел,
как лошадиные лица вокруг него оживились и у них заблестели глаза. Сзади брякнула дверь.
Толик обернулся.
В вестибюль вошел милиционер, перед ним двигался бритоголовый мужчина — не
старый и не молодой. Глядя в пол, он прошел мимо Толика. Руки он держал за спиной.
Будто в школе, зажужжал под потолком звонок. Лошадиные лица зашевелились,
загомонили и повалили за высокую дверь.
— Ох, народ! — услышал Толик за спиной знакомый голос. — Прямо как в цирк валят!
Он повернулся и увидел, что рядом с бабкой и мамой стоит тетя Поля. Она покачала
головой, повернулась к бабке и сказала:
— И у тебя, я гляжу, совести нет. Бога бы побоялась!
Бабка не моргнула, не шевельнулась, будто оглохла, будто не ей это говорят, и тетя
Поля укоризненно на маму посмотрела.
— Ну а ты-то, Маша, как могла? Мало вам для мальчишки всяких бед, так еще в суд
притащили?
Мама покраснела, глаза ее сразу взмокли, она не знала, что сказать. Тетя Поля подошла
к Толику, взяла его за плечо.
— Ладно! — сказала она маме с бабкой. — Мы с ним на улице подождем.
Мама быстро кивнула, радуясь, что так хорошо все обошлось, и Толик с тетей Полей
двинулись к двери.
Июньский ветер будто ополоснул Толика прозрачной водой. Он вздохнул облегченно и
вздрогнул.
Перед ним стоял отец.
Наполовину уже похудел толстый календарь на стенке с тех пор, как ушел отец.
Каждый день — долой листок. Один листок — тонкий, а много листков — полкалендаря.
Отец стоял перед ним, бледнея, а в памяти Толика, будто в ускоренном кино,
проносилось одно за другим все, что было за это время.
Как обнимал он отца в последний раз, и тот стоял, небритый, серый, сжимая в руке
авоську с мятыми рубашками. Как писал первую жалобу, роняя на бумагу кляксы. Толстый
почтарь, подмигивающий красными глазами «Москвич», горящий оранжевый ящик, седой