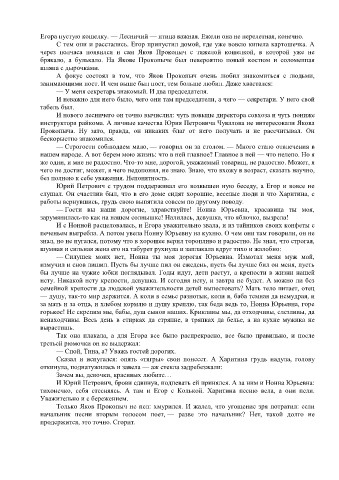Page 70 - Не стреляйте в белых лебедей
P. 70
Егора пустую кошелку. — Лесничий — птица важная. Ежели она не перелетная, конечно.
С тем они и расстались. Егор припустил домой, где уже вовсю кипела картошечка. А
через полчаса появился и сам Яков Прокопыч с тяжелой кошелкой, в которой уже не
брякало, а булькало. На Якове Прокопыче был невероятно новый костюм и соломенная
шляпа с дырочками.
А фокус состоял в том, что Яков Прокопыч очень любил знакомиться с людьми,
занимающими пост. И чем выше был пост, тем больше любил. Даже хвастался:
— У меня секретарь знакомый. И два председателя.
И неважно для него было, чего они там председатели, а чего — секретари. У него свой
табель был.
И нового лесничего он точно вычислил: чуть повыше директора совхоза и чуть пониже
инструктора райкома. А личные качества Юрия Петровича Чувалова не интересовали Якова
Прокопыча. Ну зато, правда, он никаких благ от него получать и не рассчитывал. Он
бескорыстно знакомился.
— Строгости соблюдаем мало, — говорил он за столом. — Много стало отвлечения в
нашем народе. А вот берем мою жизнь: что в ней главное? Главное в ней — что нелепо. Но я
же один, и мне не радостно. Что-то мне, дорогой, уважаемый товарищ, не радостно. Может, я
чего не достиг, может, я чего недопонял, не знаю. Знаю, что вхожу в возраст, сказать научно,
без полною к себе уважения. Непонятность.
Юрий Петрович с трудом поддерживал его возвышен ную беседу, а Егор и вовсе не
слушал. Он счастлив был, что в его доме сидят хорошие, веселые люди и что Харитина, с
работы вернувшись, грудь свою выпятила совсем по другому поводу.
— Гости вы наши дорогие, здравствуйте! Нонна Юрьевна, красавица ты моя,
зарумянилась-то как на нашем солнышке! Налилась, девушка, что яблочко, вызрела!
И с Нонной расцеловалась, и Егора уважительно звала, и из тайников своих конфеты с
печеньем выгребла. А потом увела Нонну Юрьевну на кухню. О чем они там говорили, он не
знал, но не пугался, потому что в хорошее верил торопливо и радостно. Не знал, что строгая,
шумная и сильная жена его на табурет рухнула и заплакала вдруг тихо и жалобно:
— Силушек моих нет, Нонна ты моя дорогая Юрьевна. Измотал меня муж мой,
измучил и снов лишил. Пусть бы лучше пил он ежедень, пусть бы лучше бил он меня, пусть
бы лучше на чужие юбки поглядывал. Годы идут, дети растут, а крепости в жизни нашей
нету. Никакой нету крепости, девушка. И сегодня нету, и завтра не будет. А можно ли без
семейной крепости да людской уважительности детей выпестовать? Мать тело питает, отец
— душу, так-то мир держится. А коли в семье разнотык, коли я, баба темная да немудрая, и
за мать и за отца, и хлебом кормлю и душу креплю, так беда ведь то, Нонна Юрьевна, горе
горькое! Не скрепим мы, бабы, душ сынов наших. Крикливы мы, да отходчивы, слезливы, да
ненаходчивы. Весь день в стирках да стряпне, в тряпках да белье, а на кухне мужика не
вырастишь.
Так она плакала, а для Егора все было распрекрасно, все было правильно, и после
третьей рюмочки он не выдержал:
— Спой, Тина, а? Уважь гостей дорогих.
Сказал и испугался: опять «тягры» свои понесет. А Харитина грудь надула, голову
откинула, поднатужилась и завела — аж стекла задребезжали:
Зачем вы, девочки, красивых любите…
И Юрий Петрович, брови сдвинув, подпевать ей принялся. А за ним и Нонна Юрьевна:
тихонечко, себя стесняясь. А там и Егор с Колькой. Харитина песню вела, а они пели.
Уважительно и с бережением.
Только Яков Прокопыч не пел: хмурился. И жалел, что угощение зря потратил: если
начальник песни вторым голосом поет, — разве это начальник? Нет, такой долго не
продержится, это точно. Сгорит.