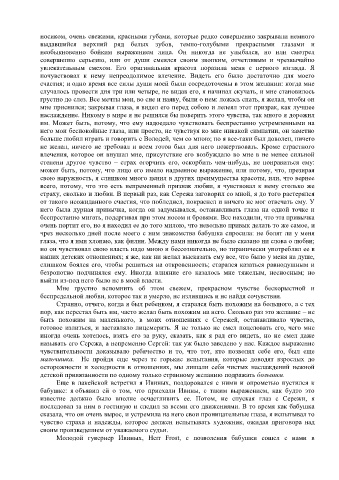Page 33 - Детство. Отрочество. После бала
P. 33
носиком, очень свежими, красными губами, которые редко совершенно закрывали немного
выдавшийся верхний ряд белых зубов, темно-голубыми прекрасными глазами и
необыкновенно бойким выражением лица. Он никогда не улыбался, но или смотрел
совершенно серьезно, или от души смеялся своим звонким, отчетливым и чрезвычайно
увлекательным смехом. Его оригинальная красота поразила меня с первого взгляда. Я
почувствовал к нему непреодолимое влечение. Видеть его было достаточно для моего
счастия; и одно время все силы души моей были сосредоточены в этом желании: когда мне
случалось провести дня три или четыре, не видав его, я начинал скучать, и мне становилось
грустно до слез. Все мечты мои, во сне и наяву, были о нем: ложась спать, я желал, чтобы он
мне приснился; закрывая глаза, я видел его перед собою и лелеял этот призрак, как лучшее
наслаждение. Никому в мире я не решился бы поверить этого чувства, так много я дорожил
им. Может быть, потому, что ему надоедало чувствовать беспрестанно устремленными на
него мои беспокойные глаза, или просто, не чувствуя ко мне никакой симпатии, он заметно
больше любил играть и говорить с Володей, чем со мною; но я все-таки был доволен, ничего
не желал, ничего не требовал и всем готов был для него пожертвовать. Кроме страстного
влечения, которое он внушал мне, присутствие его возбуждало во мне в не менее сильной
степени другое чувство – страх огорчить его, оскорбить чем-нибудь, не понравиться ему:
может быть, потому, что лицо его имело надменное выражение, или потому, что, презирая
свою наружность, я слишком много ценил в других преимущества красоты, или, что вернее
всего, потому, что это есть непременный признак любви, я чувствовал к нему столько же
страху, сколько и любви. В первый раз, как Сережа заговорил со мной, я до того растерялся
от такого неожиданного счастия, что побледнел, покраснел и ничего не мог отвечать ему. У
него была дурная привычка, когда он задумывался, останавливать глаза на одной точке и
беспрестанно мигать, подергивая при этом носом и бровями. Все находили, что эта привычка
очень портит его, но я находил ее до того милою, что невольно привык делать то же самое, и
чрез несколько дней после моего с ним знакомства бабушка спросила: не болят ли у меня
глаза, что я ими хлопаю, как филин. Между нами никогда не было сказано ни слова о любви;
но он чувствовал свою власть надо мною и бессознательно, но тиранически употреблял ее в
наших детских отношениях; я же, как ни желал высказать ему все, что было у меня на душе,
слишком боялся его, чтобы решиться на откровенность; старался казаться равнодушным и
безропотно подчинялся ему. Иногда влияние его казалось мне тяжелым, несносным; но
выйти из-под него было не в моей власти.
Мне грустно вспомнить об этом свежем, прекрасном чувстве бескорыстной и
беспредельной любви, которое так и умерло, не излившись и не найдя сочувствия.
Странно, отчего, когда я был ребенком, я старался быть похожим на большого, а с тех
пор, как перестал быть им, часто желал быть похожим на него. Сколько раз это желание – не
быть похожим на маленького, в моих отношениях с Сережей, останавливало чувство,
готовое излиться, и заставляло лицемерить. Я не только не смел поцеловать его, чего мне
иногда очень хотелось, взять его за руку, сказать, как я рад его видеть, но не смел даже
называть его Сережа, а непременно Сергей: так уж было заведено у нас. Каждое выражение
чувствительности доказывало ребячество и то, что тот, кто позволял себе его, был еще
мальчишка. Не пройдя еще через те горькие испытания, которые доводят взрослых до
осторожности и холодности в отношениях, мы лишали себя чистых наслаждений нежной
детской привязанности по одному только странному желанию подражать большим.
Еще в лакейской встретил я Ивиных, поздоровался с ними и опрометью пустился к
бабушке: я объявил ей о том, что приехали Ивины, с таким выражением, как будто это
известие должно было вполне осчастливить ее. Потом, не спуская глаз с Сережи, я
последовал за ним в гостиную и следил за всеми его движениями. В то время как бабушка
сказала, что он очень вырос, и устремила на него свои проницательные глаза, я испытывал то
чувство страха и надежды, которое должен испытывать художник, ожидая приговора над
своим произведением от уважаемого судьи.
Молодой гувернер Ивиных, Herr Frost, с позволения бабушки сошел с нами в