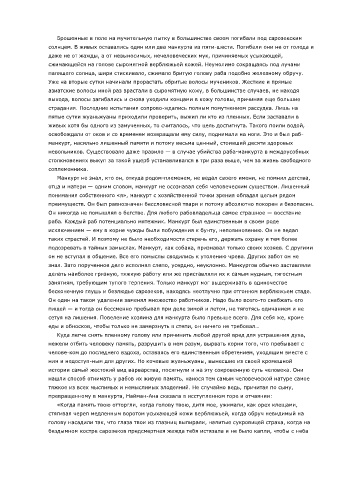Page 63 - Белый пароход
P. 63
Брошенные в поле на мучительную пытку в большинстве своем погибали под сарозекским
солнцем. В живых оставались один или два манкурта из пяти-шести. Погибали они не от голода и
даже не от жажды, а от невыносимых, нечеловеческих мук, причиняемых усыхающей,
сжимающейся на голове сыромятной верблюжьей кожей. Неумолимо сокращаясь под лучами
палящего солнца, шири стискивало, сжимало бритую голову раба подобно железному обручу.
Уже на вторые сутки начинали прорастать обритые волосы мучеников. Жесткие и прямые
азиатские волосы иной раз врастали в сыромятную кожу, в большинстве случаев, не находя
выхода, волосы загибались и снова уходили концами в кожу головы, причиняя еще большие
страдания. Последние испытания сопрово-ждались полным помутнением рассудка. Лишь на
пятые сутки жуаньжуаны приходили проверить, выжил ли кто из пленных. Если заставали в
живых хотя бы одного из замученных, то считалось, что цель достигнута. Такого поили водой,
освобождали от оков и со временем возвращали ему силу, поднимали на ноги. Это и был раб-
манкурт, насильно лишенный памяти и потому весьма ценный, стоивший десяти здоровых
невольников. Существовало даже правило — в случае убийства раба-манкурта в междоусобных
столкновениях выкуп за такой ущерб устанавливался в три раза выше, чем за жизнь свободного
соплеменника.
Манкурт не знал, кто он, откуда родом-племенем, не ведал своего имени, не помнил детства,
отца и матери — одним словом, манкурт не осознавал себя человеческим существом. Лишенный
понимания собственного «я», манкурт с хозяйственной точки зрения обладал целым рядом
преимуществ. Он был равнозначен бессловесной твари и потому абсолютно покорен и безопасен.
Он никогда не помышлял о бегстве. Для любого рабовладельца самое страшное — восстание
раба. Каждый раб потенциально мятежник. Манкурт был единственным в своем роде
исключением — ему в корне чужды были побуждения к бунту, неповиновению. Он не ведал
таких страстей. И поэтому не было необходимости стеречь его, держать охрану и тем более
подозревать в тайных замыслах. Манкурт, как собака, признавал только своих хозяев. С другими
он не вступал в общение. Все его помыслы сводились к утолению чрева. Других забот он не
знал. Зато порученное дело исполнял слепо, усердно, неуклонно. Манкуртов обычно заставляли
делать наиболее грязную, тяжкую работу или же приставляли их к самым нудным, тягостным
занятиям, требующим тупого терпения. Только манкурт мог выдерживать в одиночестве
бесконечную глушь и безлюдье сарозеков, находясь неотлучно при отгонном верблюжьем стаде.
Он один на таком удалении заменял множество работников. Надо было всего-то снабжать его
пищей — и тогда он бессменно пребывал при деле зимой и летом, не тяготясь одичанием и не
сетуя на лишения. Повеление хозяина для манкурта было превыше всего. Для себя же, кроме
еды и обносков, чтобы только не замерзнуть в степи, он ничего не требовал…
Куда легче снять пленному голову или причинить любой другой вред для устрашения духа,
нежели отбить человеку память, разрушить в нем разум, вырвать корни того, что пребывает с
челове-ком до последнего вздоха, оставаясь его единственным обретением, уходящим вместе с
ним и недоступ-ным для других. Но кочевые жуаньжуаны, вынесшие из своей кромешной
истории самый жестокий вид варварства, посягнули и на эту сокровенную суть человека. Они
нашли способ отнимать у рабов их живую память, нанося тем самым человеческой натуре самое
тяжкое из всех мыслимых и немыслимых злодеяний. Не случайно ведь, причитая по сыну,
превращенному в манкурта, Найман-Ана сказала в исступленном горе и отчаянии:
«Когда память твою отторгли, когда голову твою, дитя мое, ужимали, как орех клещами,
стягивая череп медленным воротом усыхающей кожи верблюжьей, когда обруч невидимый на
голову насадили так, что глаза твои из глазниц выпирали, налитые сукровицей страха, когда на
бездымном костре сарозеков предсмертная жажда тебя истязала и не было капли, чтобы с неба