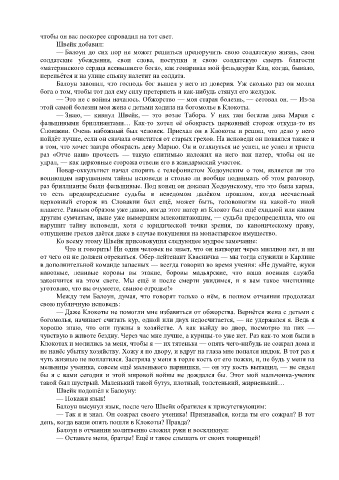Page 292 - Похождения бравого солдата Швейка
P. 292
чтобы он вас поскорее спровадил на тот свет.
Швейк добавил:
— Балоун до сих пор не может решиться препоручить свою солдатскую жизнь, свои
солдатские убеждения, свои слова, поступки и свою солдатскую смерть благости
«материнского сердца всевышнего бога», как говаривал мой фельдкурат Кац, когда, бывало,
перепьётся и на улице спьяну налетит на солдата.
Балоун завопил, что господь бог вышел у него из доверия. Уж сколько раз он молил
бога о том, чтобы тот дал ему силу претерпеть и как-нибудь стянул его желудок.
— Это не с войны началось. Обжорство — моя старая болезнь, — сетовал он. — Из-за
этой самой болезни моя жена с детьми ходила на богомолье в Клокоты.
— Знаю, — кивнул Швейк, — это возле Табора. У них там богатая дева Мария с
фальшивыми бриллиантами… Как-то хотел её обокрасть церковный сторож откуда-то из
Словакии. Очень набожный был человек. Приехал он в Клокоты и решил, что дело у него
пойдёт лучше, если он сначала очистится от старых грехов. На исповеди он покаялся также и
в том, что хочет завтра обокрасть деву Марию. Он и оглянуться не успел, не успел и триста
раз «Отче наш» прочесть — такую епитимью наложил на него пан патер, чтобы он не
удрал, — как церковные сторожа отвели его в жандармский участок.
Повар-оккультист начал спорить с телефонистом Ходоунским о том, является ли это
вопиющим нарушением тайны исповеди и стоило ли вообще поднимать об этом разговор,
раз бриллианты были фальшивые. Под конец он доказал Ходоунскому, что это была карма,
то есть предопределение судьбы в неведомом далёком прошлом, когда несчастный
церковный сторож из Словакии был ещё, может быть, головоногим на какой-то иной
планете. Равным образом уже давно, когда этот патер из Клокот был ещё ехидной или каким
другим сумчатым, ныне уже вымершим млекопитающим, — судьба предопределила, что он
нарушит тайну исповеди, хотя с юридической точки зрения, по каноническому праву,
отпущение грехов даётся даже в случае покушения на монастырское имущество.
Ко всему этому Швейк присовокупил следующее мудрое замечание:
— Что и говорить! Ни один человек не знает, что он натворит через миллион лет, и ни
от чего он не должен отрекаться. Обер-лейтенант Квасничка — мы тогда служили в Карлине
в дополнительной команде запасных — всегда говорил во время учения: «Не думайте, жуки
навозные, ленивые коровы вы этакие, боровы мадьярские, что ваша военная служба
закончится на этом свете. Мы ещё и после смерти увидимся, и я вам такое чистилище
уготовлю, что вы очумеете, свиное отродье!»
Между тем Балоун, думая, что говорят только о нём, в полном отчаяния продолжал
свою публичную исповедь:
— Даже Клокоты не помогли мне избавиться от обжорства. Вернётся жена с детьми с
богомолья, начинает считать кур, одной или двух недосчитается, — не удержался я. Ведь я
хорошо знаю, что они нужны в хозяйстве. А как выйду во двор, посмотрю на них —
чувствую в животе бездну. Через час мне лучше, а курицы-то уже нет. Раз как-то мои были в
Клокотах и молились за меня, чтобы я — их тятенька — опять чего-нибудь не сожрал дома и
не нанёс убытку хозяйству. Хожу я по двору, и вдруг на глаза мне попался индюк. В тот раз я
чуть жизнью не поплатился. Застряла у меня в горле кость от его ножки, и, не будь у меня на
мельнице ученика, совсем ещё маленького парнишки, — он эту кость вытащил, — не сидел
бы я с вами сегодня и этой мировой войны не дождался бы. Этот мой мальчонка-ученик
такой был шустрый. Маленький такой бутуз, плотный, толстенький, жирненький…
Швейк подошёл к Балоуну:
— Покажи язык!
Балоун высунул язык, после чего Швейк обратился к присутствующим:
— Так я и знал. Он сожрал своего ученика! Признавайся, когда ты его сожрал? В тот
день, когда ваши опять пошли в Клокоты? Правда?
Балоун в отчаянии молитвенно сложил руки и воскликнул:
— Оставьте меня, братцы! Ещё и такое слышать от своих товарищей!