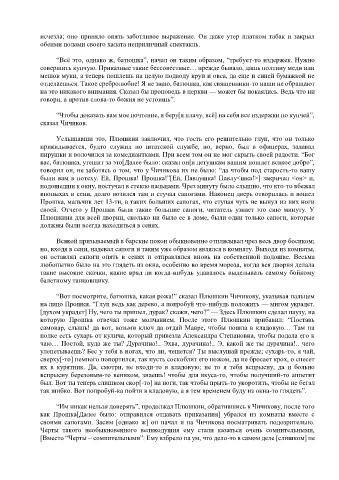Page 45 - Мертвые души
P. 45
исчезла; оно приняло опять заботливое выражение. Он даже утер платком табак и закрыл
обеими полами своего халата неприличный спектакль.
“Всё это, однако ж, батюшка”, начал он таким образом, “требует-то издержек. Нужно
совершить купчую. Приказные такие бессовестные… прежде бывало, дашь полтину меди или
мешок муки, а теперь пошлешь на целую подводу круп и овса, да еще и синей бумажкой не
отделаешься. Такое сребролюбие! Я не знаю, батюшка, как священники-то наши не обращают
на это никакого внимания. Сказал бы проповедь в церкви — может бы покаялись. Ведь что ни
говори, а против слова-то божия не устоишь”.
“Чтобы доказать вам мое почтение, я беру[я плачу, всё] на себя все издержки по купчей”,
сказал Чичиков.
Услышавши это, Плюшкин заключил, что гость его решительно глуп, что он только
прикидывается, будто служил по штатской службе, но, верно, был в офицерах, задавал
пирушки и волочился за комедиантками. При всем том он не мог скрыть своей радости. “Бог
вас, батюшка, утешит за это[Далее было: сказал он[и детушкам вашим пошлет всякое добро”,
говорил он, не заботясь о том, что у Чичикова их не было: “да чтобы под старость-то вашу
были вам в потеху. Ей, Прошка! Прошка!”[Ей, Павлушка! Павлу<шка!>] закричал <он> и,
подошедши к окну, постучал в стекло пальцами. Чрез минуту было слышно, что кто-то вбежал
впопыхах в сени, долго возился там и стучал сапогами. Наконец дверь отворилась и вошел
Прошка, мальчик лет 13-ти, в таких больших сапогах, что ступая чуть не вынул из них ноги
своей. Отчего у Прошки были такие большие сапоги, читатель узнает это сию минуту. У
Плюшкина для всей дворни, сколько ни было ее в доме, были одни только сапоги, которые
должны были всегда находиться в сенях.
Всякой призываемый в барские покои обыкновенно отплясывал чрез весь двор босиком;
но, входя в сени, надевал сапоги и таким уже образом являлся в комнату. Выходя из комнаты,
он оставлял сапоги опять в сенях и отправлялся вновь на собственной подошве. Весьма
любопытно было на это глядеть из окна, особенно во время мороза, когда вся дворня делала
такие высокие скачки, какие вряд ли когда-нибудь удавалось выделывать самому бойкому
балетному танцовщику.
“Вот посмотрите, батюшка, какая рожа!” сказал Плюшкин Чичикову, указывая пальцем
на лицо Прошки. “Глуп ведь как дерево, а попробуй что-нибудь положить — мигом украдет.
[духом украдет] Ну, чего ты пришел, дурак? скажи, чего?” — Здесь Плюшкин сделал паузу, на
которую Прошка отвечал тоже молчанием. После этого Плюшкин прибавил: “Поставь
самовар, слышь! да вот, возьми ключ да отдай Мавре, чтобы пошла в кладовую… Там на
полке есть сухарь от кулича, который привезла Александра Степановна, чтобы подала его к
чаю… Постой, куда же ты? Дурачина!.. Эхва, дурачина!.. Э, какой же ты дурачина!.. чего
улепетываешь? Бес у тебя в ногах, что ли, чешется? Ты выслушай прежде; сухарь-то, я чай,
сверху[-то] немного попортился, так пусть соскоблит его ножом, да не бросает крох, о снесет
их в курятник. Да, смотри, не входи-то в кладовую; не то я тебя вспрысну, да и больно
вспрысну березовым-то веником, знаешь! чтобы для вкуса-то, чтобы получший-то аппетит
был. Вот ты теперь слишком скор[-то] на ноги, так чтобы прыть-то укоротить, чтобы не бегал
так шибко. Вот попробуй-ка пойти в кладовую, а я тем временем буду из окна-то глядеть”.
“Им никак нельзя доверять”, продолжал Плюшкин, обратившись к Чичикову, после того
как Прошка[Далее было: отправился отдавать приказания] убрался из комнаты вместе с
своими сапогами. Засим [однако ж] он начал и на Чичикова посматривать подозрительно.
Черты такого необыкновенного великодушия ему стали казаться очень сомнительными,
[Вместо “Черты ~ сомнительными”: Ему взбрело на ум, что дело-то в самом деле [слишком] не