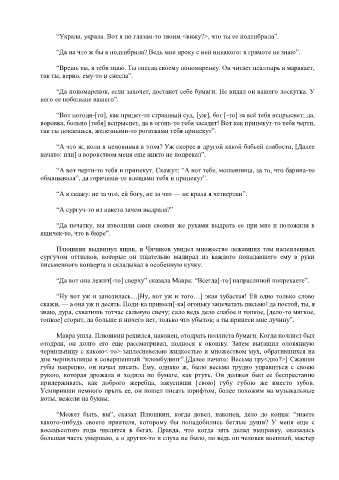Page 48 - Мертвые души
P. 48
“Украла, украла. Вот я по глазам-то твоим <вижу?>, что ты ее подтибрила”.
“Да на что ж бы я подтибрила? Ведь мне проку с ней никакого: я грамоте не знаю”.
“Врешь ты, я тебя знаю. Ты снесла своему пономаренку. Он читает псалтырь и маракает,
так ты, верно, ему-то и снесла”.
“Да пономаренок, если захочет, достанет себе бумаги. Не видал он вашего лоскутка. У
него ее побольше вашего”.
“Вот погоди-[то], как придет-то страшный суд, [уж], бог [-то] за всё тебя вспрыснет; да,
воровка, больно [тебя] вспрыснет, да в огонь-то тебя засадят! Вот как припекут-то тебя черти,
так ты покаешься, железными-то рогатками тебя припекут”.
“А что ж, коли я неповинна в этом? Уж скорее в другой какой бабьей слабости, [Далее
начато: или] а воровством меня еще никто не попрекал”.
“А вот черти-то тебя и припекут. Скажут: “А вот тебе, мошенница, за то, что барина-то
обманывала”, да горячими-то клещами тебя и припекут”.
“А я скажу: не за что, ей богу, не за что — не крала я четвертки”.
“А сургуч-то из пакета зачем выдрала?”
“Да печатку, вы изволили сами своими же руками выдрать ее при мне и положили в
ящичек-то, что в бюре”.
Плюшкин выдвинул ящик, и Чичиков увидел множество лежавших там налепленных
сургучом оттисков, которые он тщательно выдирал из каждого попадавшего ему в руки
письменного конверта и складывал в особенную кучку.
“Да вот она лежит[-то] сверху” сказала Мавра: “Всегда[-то] напраслиной попрекаете”.
“Ну вот уж и занозилась…[Ну, вот уж и того…] экая зубастая! Ей одно только слово
скажи, — а она уж и десять. Поди-ка принеси[-ка] огоньку запечатать письмо! да постой, ты, я
знаю, дура, схватишь тотчас сальную свечу; сало ведь дело слабое и топкое, [дело-то мягкое,
топкое] сгорит, да больше и ничего нет, только что убыток; а ты принеси мне лучину”.
Мавра ушла. Плюшкин решился, наконец, отодрать поллиста бумаги. Когда поллист был
отодран, он долго его еще рассматривал, поднося к окошку. Затем вытащил оловянную
чернильницу с какою<-то> заплесневелою жидкостью и множеством мух, обратившихся на
дне чернильницы в совершенный “пломбудинг”.[Далее начато: Весьма тру<дно?>] Сжавши
губы накрепко, он начал писать. Ему, однако ж, было весьма трудно управиться с своею
рукою, которая дрожала и ходила по бумаге, как ртуть. Он должен был ее беспрестанно
придерживать, как доброго жеребца, закусивши [свою] губу губою же вместо зубов.
Усмиривши немного прыть ее, он пошел писать шрифтом, более похожим на музыкальные
ноты, нежели на буквы.
“Может быть, вы”, сказал Плюшкин, когда довел, наконец, дело до конца: “знаете
какого-нибудь своего приятеля, которому бы понадобились беглые души? У меня еще с
восемьсотого года числятся в бегах. Правда, что когда зять делал выправку, оказалась
большая часть умершею, а о других-то и слуха не было, но ведь он человек военный, мастер