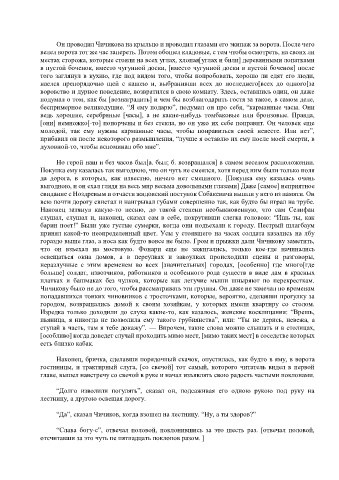Page 51 - Мертвые души
P. 51
Он проводил Чичикова на крыльцо и проводил глазами его экипаж за ворота. После чего
велел ворота тот же час запереть. Потом обошел кладовые, с тем чтобы осмотреть, на своих ли
местах сторожа, которые стояли на всех углах, хлопая[углах и били] деревянными лопатками
в пустой боченок, вместо чугунной доски, [вместо чугунной доски в пустой боченок] после
того заглянул в кухню, где под видом того, чтобы попробовать, хорошо ли едят его люди,
наелся препорядочно щей с кашею и, выбранивши всех до последнего[всех до одного[за
воровство и дурное поведение, возвратился в свою комнату. Здесь, оставшись один, он даже
подумал о том, как бы [вознаградить] и чем бы возблагодарить гостя за такое, в самом деле,
беспримерное великодушие. “Я ему подарю”, подумал он про себя, “карманные часы. Они
ведь хорошие, серебряные [часы], а не какие-нибудь томбаковые или бронзовые. Правда,
[они] немножко[-то] попорчены и без стекла, но он ужо их себе поправит. Он человек еще
молодой, так ему нужны карманные часы, чтобы понравиться своей невесте. Или нет”,
прибавил он после некоторого размышления, “лучше я оставлю их ему после моей смерти, в
духовной-то, чтобы вспоминал обо мне”.
Но герой наш и без часов был[а. был; б. возвращался] в самом веселом расположении.
Покупка ему казалась так выгодною, что он чуть не смеялся, хотя перед ним были только поля
да дорога, в которых, как известно, ничего нет смешного. [Покупка ему казалась очень
выгодною, и он ехал глядя на весь мир весьма довольными глазами] Даже [самое] неприятное
свидание с Ноздревым и отчасти жидовский поступок Собакевича вышли у него из памяти. Он
всю почти дорогу свистал и наигрывал губами совершенно так, как будто бы играл на трубе.
Наконец затянул какую-то песню, до такой степени необыкновенную, что сам Селифан
слушал, слушал и, наконец, сказал сам в себе, покрутивши слегка головою: “Ишь ты, как
барин поет!” Были уже густые сумерки, когда они подъехали к городу. Пестрый шлагбаум
принял какой-то неопределенный цвет. Усы у стоявшего на часах солдата казались на лбу
гораздо выше глаз, а носа как будто вовсе не было. Гром и прыжки дали Чичикову заметить,
что он взъехал на мостовую. Фонари еще не зажигались, только кое-где начинались
освещаться окна домов, а в переулках и закоулках происходили сцены и разговоры,
неразлучные с этим временем во всех [значительных] городах, [особенно] где много[где
больше] солдат, извозчиков, работников и особенного рода существ в виде дам в красных
платках и башмаках без чулков, которые как летучие мыши шныряют по перекресткам.
Чичикову было не до того, чтобы рассматривать эти группы. Он даже не замечал по временам
попадавшихся тонких чиновников с тросточками, которые, вероятно, сделавши прогулку за
городом, возвращались домой к своим хозяйкам, у которых имели квартиру со столом.
Изредка только доходили до слуха какие-то, как казалось, женские восклицания: “Врешь,
пьяница, я никогда не позволила ему такого грубиянства”, или: “Ты не дерись, невежа, а
ступай в часть, там я тебе докажу”. — Впрочем, такие слова можно слышать и в столицах,
[особливо] когда доведет случай проходить мимо мест, [мимо таких мест] в соседстве которых
есть близко кабак.
Наконец, бричка, сделавши порядочный скачок, опустилась, как будто в яму, в ворота
гостиницы, и трактирный слуга, [со свечой] тот самый, которого читатель видел в первой
главе, вышел навстречу со свечой в руке и начал изъявлять свою радость частыми поклонами.
“Долго изволили погулять”, сказал он, подсаживая его одною рукою под руку на
лестницу, а другою освещая дорогу.
“Да”, сказал Чичиков, когда взошел на лестницу. “Ну, а ты здоров?”
“Слава богу-с”, отвечал половой, поклонившись за это шесть раз. [отвечал половой,
отсчитавши за это чуть не пятнадцать поклонов разом. ]