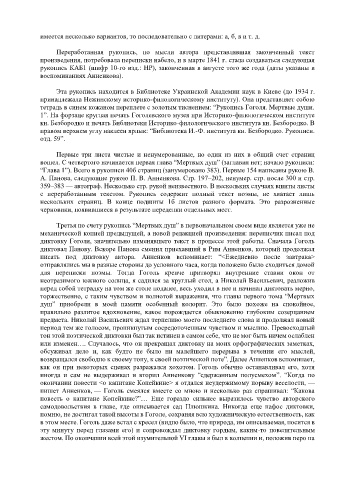Page 610 - Мертвые души
P. 610
имеется несколько вариантов, то последовательно с литерами: а, б, в и т. д.
Переработанная рукопись, по мысли автора представлявшая законченный текст
произведения, потребовала переписки набело, и в марте 1841 г. стала создаваться следующая
рукопись КАБ1 (шифр 10-го изд.: HP), законченная в августе того же года (даты указаны в
воспоминаниях Анненкова).
Эта рукопись находится в Библиотеке Украинской Академии наук в Киеве (до 1934 г.
принадлежала Нежинскому историко-филологическому институту). Она представляет собою
тетрадь в синем кожаном переплете с золотым тиснением: “Рукопись Гоголя. Мертвые души.
1”. На форзаце круглая печать Гоголевского музея при Историко-филологическом институте
кн. Безбородко и печать Библиотеки Историко-филологического института кн. Безбородко. В
правом верхнем углу наклеен ярлык: “Библиотека И.-Ф. института кн. Безбородко. Рукописн.
отд. 59”.
Первые три листа чистые и ненумерованные, но один из них в общий счет страниц
вошел. С четвертого начинается первая глава “Мертвых душ” (заглавия нет; начало рукописи:
“Глава 1”). Всего в рукописи 40б страниц (занумеровано 383). Первые 154 написаны рукою В.
А. Панова, следующие рукою П. В. Анненкова. Стр. 197–202, ненумер. стр. после 300 и стр.
359–383 — автограф. Несколько стр. рукой неизвестного. В нескольких случаях вшиты листы
с переработанным текстом. Рукопись содержит полный текст поэмы, не хватает лишь
нескольких страниц. В конце подшиты 1б листов разного формата. Это разрозненные
черновики, появившиеся в результате переделки отдельных мест.
Третья по счету рукопись “Мертвых душ” в первоначальном своем виде является уже не
механической копией предыдущей, а новой редакцией произведения: переписчик писал под
диктовку Гоголя, значительно изменявшего текст в процессе этой работы. Сначала Гоголь
диктовал Панову. Вскоре Панова сменил приехавший в Рим Анненков, который продолжал
писать под диктовку автора. Анненков вспоминает: “<Ежедневно после завтрака>
отправлялись мы в разные стороны до условного часа, когда положено было сходиться домой
для переписки поэмы. Тогда Гоголь крепче притворял внутренние ставни окон от
неотразимого южного солнца, я садился за круглый стол, а Николай Васильевич, разложив
перед собой тетрадку на том же столе подалее, весь уходил в нее и начинал диктовать мерно,
торжественно, с таким чувством и полнотой выражения, что главы первого тома “Мертвых
душ” приобрели в моей памяти особенный колорит. Это было похоже на спокойное,
правильно разлитое вдохновение, какое порождается обыкновенно глубоким созерцанием
предмета. Николай Васильевич ждал терпеливо моего последнего слова и продолжал новый
период тем же голосом, проникнутым сосредоточенным чувством и мыслию. Превосходный
тон этой поэтической диктовки был так истинен в самом себе, что не мог быть ничем ослаблен
или изменен…. Случалось, что он прекращал диктовку на моих орфографических заметках,
обсуживал дело и, как будто не было ни малейшего перерыва в течении его мыслей,
возвращался свободно к своему тону, к своей поэтической ноте”. Далее Анненков вспоминает,
как он при некоторых сценах разражался хохотом. Гоголь обычно останавливал его, хотя
иногда и сам не выдерживал и вторил Анненкову “сдержанным полусмехом”. “Когда по
окончании повести <о капитане Копейкине> я отдался неудержимому порыву веселости, —
пишет Анненков, — Гоголь смеялся вместе со мною и несколько раз спрашивал: “Какова
повесть о капитане Копейкине?”… Еще гораздо сильнее выразилось чувство авторского
самодовольствия в главе, где описывается сад Плюшкина. Никогда еще пафос диктовки,
помню, не достигал такой высоты в Гоголе, сохраняя всю художническую естественность, как
в этом месте. Гоголь даже встал с кресел (видно было, что природа, им описываемая, носится в
эту минуту перед глазами его) и сопровождал диктовку гордым, каким-то повелительным
жестом. По окончании всей этой изумительной VI главы я был в волнении и, положив перо на